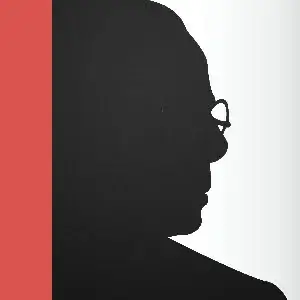15 июня 2011 InoPressa
Вторая волна рецессии – эти слова наверняка режут ухо правительству, пытающемуся поскорее вывести страну из кризиса. Еще две недели назад администрация Обамы настраивалась на позитивный лад. Но затем, словно Миссисипи в половодье, нас захлестнули неприятные цифры. ВВП за первый квартал увеличился на какие-то жалкие 1,8% (вместо ожидаемых трех), и оценки на вторые три месяца ненамного превышают этот показатель. Потом пришли сообщения о падении цен на жилье, невиданном со времен Великой депрессии, о сокращении потребительских расходов населения до самого низкого уровня за последние полгода, и вялом росте в промышленности. Но хуже всего оказались данные по занятости: за май было создано всего 54000 новых рабочих мест – в два с лишним раза меньше, чем ожидалось, и в три раза меньше, чем требуется, чтобы уровень безработицы снизился с нынешних 9,1%.
Вряд ли можно упрекнуть главу Экономического консультативного совета (Council of Economic Advisers) Остана Гулсби (Austan Goolsbee) за то, что именно в этот момент он решил вернуться к преподавательской деятельности в Чикагском университете. Профессор пытался делать хорошую мину при плохой игре, отмахиваясь от мрачных прогнозов насчет «второй волны» и приписывая весь «негатив» воздействию серьезных, но временных факторов, вроде сокращения предложения на рынке из-за катастрофы в Японии и роста цен на бензин. Председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке (Ben Bernanke) демонстрировал более трезвый подход, признавая, что оживление в экономике носит «неравномерный» и «мучительно медленный» характер. При этом он не проявляет готовности ввести в действие третий «пакет» финансовых стимулов – по крайней мере пока. «Монетарная политика – не панацея», - поясняет Бернанке. Или, как выразился Гулсби, настал момент, когда частный сектор должен «взять на себя инициативу и возглавить процесс оздоровления».
Его бы устами да мед пить. Да, на балансах американских корпораций по всему миру лежат 2 триллиона долларов, но бизнес, вопреки ожиданиям Вашингтона, не жаждет потратить эти деньги, чтобы нанимать новых работников в самих США. Тем временем простые американцы беднеют буквально с каждым днем. «С учетом уровня безработицы и ситуации на рынке жилья становится очевидно, что мы еще не до конца преодолели рецессию», - отмечает экономист из Гарварда Кен Рогофф (Ken Rogoff), подытоживая ощущение всех, кто живет за пределами вашингтонской кольцевой дороги. Официальный прогноз Белого дома на 2011 год, составленный еще до японских событий и нефтяного шока, предусматривает рост в 3,1%, но большинство экономистов называют цифру в 2,6%. Таких темпов явно недостаточно, чтобы побороть кризис занятости, грозящий создать целое «потерянное поколение» людей, неспособных найти прилично оплачиваемую работу не только сейчас, но возможно и никогда. Одним словом, добро пожаловать в эпоху двухпроцентного роста.
И если администрация действует по принципу «ничего страшного, надо двигаться дальше», то республиканцы в преддверии выборов 2012 года пытаются возложить на Обаму вину за все экономические неурядицы. Сразу оговоримся: вялый рост в США – не результат политики нынешнего президента. Многие его причины были заложены в экономике уже давно: финансовый кризис просто их высветил. По мнению Рогоффа и другого экономиста – Кармен Рейнхарт (Carmen Reinhart) – после такого кризиса необходимо четыре года только для того, чтобы достичь прежнего объема ВВП, и без антикризисных мер, принятых администрацией, ситуация была бы намного хуже.
Но отчасти сегодняшняя проблема с ростом – это и проблема Обамы. Каждый президент наследует экономическую ситуацию от предшественника, и зачастую именно она помогает ему вселиться в Белый дом. Но после этого его задача – не только изменить статистические показатели, но и направлять ход дискуссии. Пока же возникает впечатление, что Обама проигрывает спор о способах выхода из кризиса. Республиканцам удалось (кто-то скажет, не без помощи цинизма) совершить настоящее чудо – они убедили большинство американцев, что запустить экономический двигатель можно за счет сокращения налогов для богачей и крупных корпораций при одновременном урезании социальных льгот для миллионов наших соотечественников. Это, конечно, «математика абсурда», которая не может сработать: на практике, чтобы вернуть народное хозяйство на рельсы, нужно разумное сокращение социальных выплат при одновременном увеличении налогов. Однако по данным опросов 50% американцев считают отказ от повышения «потолка» задолженности разумной идеей, и убеждены, что экономический недуг следует лечить хорошей голодовкой.
Неудивительно, что весь мир тревожится о нашем будущем. К сожалению, другие страны сегодня, в отличие от 2008 года, не в состоянии нам помочь. В Европе разгорелся собственный долговой кризис. А страны с развивающейся рыночной экономикой, в первую очередь Китай, помогавший американским компаниям удержаться на плаву в период рецессии, скупая нашу продукцию, – от тяжелого промышленного оборудования до предметов роскоши – сегодня стараются затормозить собственный рост. Почему? Они тревожатся относительно инфляции, отчасти ставшей следствием политики ФРС по увеличению денежной массы, или финансовому стимулированию экономики. Значительная часть этих денег в конечном итоге оказалась на фондовом рынке, обогащая самые зажиточные 25% населения, в то время как остальным приходится скрести по сусекам, чтобы как-то прожить. Инвестиционные капиталы также устремились вверх вслед за нефтяными ценами (что больнее всего бьет по беднякам) и создали на рынках развивающихся стран «мыльные пузыри». Теперь все это возвращается к нам бумерангом.
Звучит довольно сложно – так ведь и сама картина сложна. Необходимо, однако, понимать, что за последние несколько десятилетий наша экономика претерпела важные и глубокие изменения, которые политики, как правые, так и левые, не смогли осознать. Сегодня в других странах появился полумиллиардный средний класс, способный выполнять ту же работу, что и американцы. Одновременно развитие технологий позволяет компаниям пережить рецессию почти исключительно за счет сокращения персонала. И если демократы пытаются преуменьшить значение плохих новостей, то и республиканцы, сосредоточившись на второстепенном вопросе о «потолке» задолженности, не могут предложить ни более убедительного объяснения возникших проблем, ни реальных способов их решения. Вместо этого обе стороны по-прежнему занимаются распространением мифов о том, что происходит с экономикой, и каким образом она перейдет – или не перейдет – к росту. Ниже я приведу пять самых вредных из этих мифов, и постараюсь объяснить, почему нам нужен иной путь к оздоровлению.
Миф № 1: Сейчас произошел лишь временный сбой, и скоро мы помчимся вперед на всех парах
Действительно, лишь 12,2% из экономистов, опрошенных за последние дни филадельфийским отделением ФРС, считают, что нынешняя ситуация перерастет во вторую волну кризиса (хотя с начала года доля этих «скептиков» существенно возросла). Но избежание второй волны – не синоним обеспечения роста, достаточно мощного, чтобы оживить рынок труда. На деле со слабым ростом и занятостью происходит негативный эффект «снежного кома». В прошлом после рецессии США как правило хватало шести месяцев, чтобы вернуться к нормальному уровню занятости, однако на этот раз, по оценке Глобального института Маккинси, для этого потребуется пять лет. Сохраняющаяся высокая безработица приводит к снижению темпов роста, поскольку сокращает потребительский спрос, а это, в свою очередь, затрудняет создание новых рабочих мест. Чтобы выйти к 2020 году на нормальный уровень безработицы в 5%, нам надо будет создавать по 187000 рабочих мест в месяц. При нынешних темпах роста и динамике занятости, мы к указанному сроку выполним эту задачу в лучшем случае наполовину.
Миф № 2: Все решат финансовые стимулы
Хотя третий раунд стимулов нельзя исключать в случае чрезвычайной ситуации (Обама уже намекнул на возможность серьезного ухудшения положения дел), но возможный результат вряд ли оправдывает риски. Во-первых наши кредиторы (крупнейший из них – Китай) будут явно недовольны ростом задолженности США из-за новых финансовых вливаний, не говоря уже об опасности создания на их собственных рынках «мыльных пузырей» за счет «горячих» денег. Это, впрочем, отнюдь не главное, поскольку стимулы – в виде скупки Федеральной резервной системой ГКО для снижения ставки по долгосрочным займам и облегчения рефинансирования задолженности домовладельцев – не станут большим подспорьем, если эти домовладельцы не имеют работы, позволяющей им расплачиваться по кредитам. Хотя количество выселений сокращается, наличие большого количества конфискованных за долги и выставленных на продажу домов подрывает рост цен на рынке недвижимости, что, в свою очередь, сокращает расходы потребителей и ослабляет их уверенность в завтрашнем дне. «Пришло время делать нечто большее, чем накладывать финансовые «пластыри», - полагает Мохамед Эль-Эриан (Mohamed El-Erian), генеральный директор Pimco, крупнейшей в мире компании, торгующей ценными бумагами. – Очевидно, что стимулы роста не смогли сломать структурные барьеры на пути повышения занятости».
Миф № 3: Нас спасет частный сектор
Между положением американских корпораций и работников существует фундаментальное различие: у первых дела идут совсем неплохо, а большинство последних сегодня получает меньшую зарплату, чем до рецессии. Компании имеют хорошую прибыль, но тратить ее на своих работников в США они не хотят.
Половина американцев утверждает, что не могут обеспечить себе месячный доход в 2000 долларов, не продавая что-либо из имущества. Бизнес же купается в деньгах: только за последний квартал 2010 года совокупная прибыль американских компаний составила 1,68 триллиона долларов. Однако руководство многих фирм трижды подумает, прежде чем создавать в США новый завод или исследовательский центр, если у них есть возможность создать его в Бразилии, Китае или Индии. Каждый год в этих развивающихся странах количество работников (и потребителей), относящихся к среднему классу, увеличивается на 70 миллионов. В этом заключается одна из причин высокой безработицы и низких зарплат в нашей стране. Эта ситуация сложилась задолго до рецессии и избрания Обамы президентом. В 2000-2007 годах в США было создано меньше всего рабочих мест со времен Великой депрессии.
Нобелевский лауреат Майкл Спенс (Michael Spence), автор книги «Новое схождение» (The Next Convergence), изучил вопрос о том, какие американские компании создавали рабочие места на родине в период «ускоренной глобализации» - в 1990-2008 годах. Результат оказался весьма неожиданным. Фирмы, занимавшиеся бизнесом на мировом рынке, - в том числе промышленные предприятия, банки, экспортеры, энергокомпании и корпорации, специализирующиеся на оказании финансовых услуг – практически не внесли вклада в увеличение занятости в США. Способствовали этому в основном структуры, работающие на американском рынке, и не сталкивающиеся с иностранными конкурентами – медицинские учреждения, государственные ведомства, розничные торговые и гостиничные сети. Увы, работа в этих секторах требует меньшей квалификации и хуже оплачивается, чем в отраслях, где царит аутсорсинг. «Когда я впервые увидел эти данные, я был просто ошеломлен», - рассказывает Спенс, выступающий сегодня за промышленную политику немецкого образца, связанную с сохранением рабочих мест в наиболее важных секторах отечественной экономики. Очевидно, утверждения о том, будто бизнес лишь ожидает «прояснения» ситуации в экономике и сфере регулирования, а затем начнет вкладывать капиталы на родине – не более чем миф.
Миф № 4: Мы готовы отправиться в путь, чтобы найти работу
Тезис о мобильности рабочей силы – достаточно создать рабочие места, и люди, готовые их занять, появятся сами – больше не актуален. Сегодня многие просто не могут переехать: отчасти потому, что их недвижимость сейчас стоит меньше, чем они за нее заплатили, а отчасти потому, что хваленая мобильность американцев снижалась еще до начала нынешних потрясений. В 1980-х лишь каждый пятый работник перебирался на новое место каждый год; сегодня это делает каждый десятый. Отчасти это связано с тем, что в семье все чаще работают оба супруга, и переехать, чтобы муж нашел новую работу, стало труднее. Причем в связи с тем, что женщины активно повышают свой профессиональный уровень и претендуют на рабочие места в наиболее динамичных секторах, эта тенденция будет только усиливаться.
Впрочем, есть и более важная проблема: квалификационная структура трудовых ресурсов плохо сочетается с характером имеющихся рабочих мест. Вот пример: сегодня число вакансий составляет 3 миллиона. «На рынке труда сложилась крайне непропорциональная ситуация, - отмечает один из руководителей Института Маккинси Джеймс Манийка (James Manyika), соавтор недавно опубликованного исследования под названием «Эффективная экономика: создание рабочих мест и будущее Америки» (An Economy That Works: Job Creation and America's Future). – Она охватывает его квалификационную, генденрную, классовую и географическую структуру». Это означает, что безработные автомобилестроители из Мичигана не могут продать свои заложенные дома, перебраться в Северную Дакоту, где недвижимость дешевле, а безработица составляет менее 5%, и переквалифицироваться в механиков.
Миф № 5: Предприниматели – основа экономики
Предпринимательство остается одной из самых сильных сторон Америки, верно? Нет, неверно. Темпы создания новых частных предприятий начали сокращаться еще в 1980-х. Забавно, что тогда же началось неимоверное разрастание финансового сектора. И эти две тенденции взаимосвязаны. Исследование, проведенное Фондом Кауфмана (Kauffman Foundation), показало, что между ними существует отрицательная корреляция. Причина в следующем: финансовый сектор поглощает многих талантливых людей, которые в противном случае могли бы заняться чем-то полезным в Кремниевой долине или другом центре инновационного предпринимательства. Кредитный кризис только усугубил проблему. Доступ к кредитованию по-прежнему ограничен, а прежние методы самофинансирования нового дела – по максимуму снять средства с кредитной карты или получить займ под залог имущества – можно использовать далеко не всегда.
Так что же у нас в «сухом остатке»? Экономика, по-прежнему нуждающаяся в серьезной «перетряске». Для выхода из кризиса существуют решения краткосрочного и долгосрочного порядка. Задача номер один – исправить ситуацию на рынке жилья. Хотя государство, естественно, не рвется еще глубже влезать в ипотечные дела, представляется очевидным, что рыночные механизмы неспособны устранить завалы с безнадежными долгами достаточно быстро, чтобы цены на жилье стабилизировались. Если примерно через месяц показатели этого рынка не улучшатся, правительству придется вмешаться – либо взять на себя больше безнадежных кредитов (ввести в действие аналог Программы по спасению проблемных активов, только для домовладельцев, а не инвестиционных банков?), либо учредить новые нормы, позволяющие домовладельцам добиваться от кредиторов более мягких условий выплаты задолженности.
Кроме того, не стоит забывать о высокой безработице среди молодежи. Появилось целое поколение молодых работников, которым грозит положение «вечных аутсайдеров» на рынке труда и отчуждение от общества. Научные исследования показывают, что людьми, долгое время не имеющими работы, часто овладевает депрессия, их здоровье хуже, а продолжительность жизни меньше среднестатистических показателей. Сегодня уровень безработицы среди молодежи достигает 24%, тогда как общий показатель по всем возрастным категориям равен 9,1%. Если же этим молодым людям все же удастся рано или поздно найти работу, они в ближайшие 15-20 лет будут получать меньшую зарплату, чем сверстники, ее не терявшие. В результате увеличивается разрыв между богатыми и бедными – первопричина роста политического популизма в нашей стране. И хотя республиканцы препятствуют выделению средств на государственные программы по повышению занятости и переквалификации, администрации следует «пробивать» краткосрочную программу предоставления рабочих мест на летние месяцы, чтобы помочь наиболее уязвимым «группам риска».
Однако все это – лишь временные меры. Подлинные решения не могут быть ни «быстродействующими», ни простыми – что лишь затруднит их прохождение через Конгресс. Утверждение о том, что более качественное образование повышает конкурентоспособность страны – очевидная истина, но речь здесь идет не только о том, чтобы выпускать больше дипломированных инженеров, чем Китай. Америке также понадобится очень много высококвалифицированных сварщиков и референтов, хорошо владеющих современными коммуникационными технологиями. Это говорит от необходимости создания эффективной системы среднего технического образования, для чего в свою очередь, необходим честный разговор о том, что не каждый может или должен находить деньги для учебы в ВУЗе, которая может оставить выпускника по уши в долгах и нисколько не гарантирует ему получение работы.
Другой важный вопрос – устранение различия между положением компаний и их работников. Демократы и республиканцы спорят о том, следует ли заставить американские корпорации возвращать заработанные деньги на родинку, где их можно было бы обложить налогом, и если да, то как это сделать. Однако это тоже спор не по существу. Искусные корпоративные юристы наверняка найдут способы обойти любые новые нормы на этот счет. (Этот факт сам по себе может служить аргументом в пользу упрощения системы налогообложения, что позволит отчасти устранить лазейки, благодаря которым 400 самых богатых американцев платят подоходный налог по ставке в 18%). Главное заключается в другом: необходимо сделать американскую экономику более привлекательной для инвестиций.
Один из способов добиться этого – подумать о том, что сегодня считается «пятым колесом в телеге»: промышленной политике. Эта концепция нуждается в ребрендинге, поскольку и демократы, и республиканцы шарахаются от этого «антиамериканского» явления как черт от ладана. На деле же эффективная промышленная политика – надежная подпорка для экономики. Никто не говорит о создании административно-командной системы наподобие китайской. Нужно, чтобы, как в Германии, представители частного и общественного сектора на всех уровнях совместно искали способы сохранения рабочих мест в народном хозяйстве.
Опыт Германии в этом смысле весьма показателен. В 2000 году эта страна, как сегодня США, столкнулась с необходимостью сбалансировать экономику. Объединение ФРГ и ГДР породило зияющий диспаритет доходов и высокую безработицу; одновременно немецкие рабочие места «перетекали» в другие страны Центральной Европы. Немцы, однако, не стали затушевывать проблему разговорами о «квартальных колебаниях» экономической конъюнктуры, а заглянули ей прямо в лицо. «Капитаны» большого бизнеса и профсоюзные лидеры наладили партнерство: в Германии представители профсоюзов входят в состав корпоративных правлений. Государство предоставило компаниям временные субсидии, чтобы они отказались от аутсорсинга. Главы корпораций совместно с представителями системы образования определяли нужный экономике набор квалификационных навыков. И это дало результат. Сегодня в Германии темпы роста выше, а безработица ниже, чем до рецессии.
Может показаться, что в нашем поляризованном по политическим линиям обществе подобное сотрудничество невозможно. Но в Германии после падения Берлинской стены поляризация была куда больше. Стоит вспомнить, что экономика меняется как правило именно в периоды кризисов. Банковский кризис мы уже пережили. Теперь мы столкнулись с кризисом долгосрочного порядка – в сфере роста и безработицы. И от того, как мы с ним справится, зависит ситуация в нашей экономике не на ближайшую пару кварталов, а на несколько десятилетий
What U.S. Economic Recovery? Five Destructive Myths
Вряд ли можно упрекнуть главу Экономического консультативного совета (Council of Economic Advisers) Остана Гулсби (Austan Goolsbee) за то, что именно в этот момент он решил вернуться к преподавательской деятельности в Чикагском университете. Профессор пытался делать хорошую мину при плохой игре, отмахиваясь от мрачных прогнозов насчет «второй волны» и приписывая весь «негатив» воздействию серьезных, но временных факторов, вроде сокращения предложения на рынке из-за катастрофы в Японии и роста цен на бензин. Председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке (Ben Bernanke) демонстрировал более трезвый подход, признавая, что оживление в экономике носит «неравномерный» и «мучительно медленный» характер. При этом он не проявляет готовности ввести в действие третий «пакет» финансовых стимулов – по крайней мере пока. «Монетарная политика – не панацея», - поясняет Бернанке. Или, как выразился Гулсби, настал момент, когда частный сектор должен «взять на себя инициативу и возглавить процесс оздоровления».
Его бы устами да мед пить. Да, на балансах американских корпораций по всему миру лежат 2 триллиона долларов, но бизнес, вопреки ожиданиям Вашингтона, не жаждет потратить эти деньги, чтобы нанимать новых работников в самих США. Тем временем простые американцы беднеют буквально с каждым днем. «С учетом уровня безработицы и ситуации на рынке жилья становится очевидно, что мы еще не до конца преодолели рецессию», - отмечает экономист из Гарварда Кен Рогофф (Ken Rogoff), подытоживая ощущение всех, кто живет за пределами вашингтонской кольцевой дороги. Официальный прогноз Белого дома на 2011 год, составленный еще до японских событий и нефтяного шока, предусматривает рост в 3,1%, но большинство экономистов называют цифру в 2,6%. Таких темпов явно недостаточно, чтобы побороть кризис занятости, грозящий создать целое «потерянное поколение» людей, неспособных найти прилично оплачиваемую работу не только сейчас, но возможно и никогда. Одним словом, добро пожаловать в эпоху двухпроцентного роста.
И если администрация действует по принципу «ничего страшного, надо двигаться дальше», то республиканцы в преддверии выборов 2012 года пытаются возложить на Обаму вину за все экономические неурядицы. Сразу оговоримся: вялый рост в США – не результат политики нынешнего президента. Многие его причины были заложены в экономике уже давно: финансовый кризис просто их высветил. По мнению Рогоффа и другого экономиста – Кармен Рейнхарт (Carmen Reinhart) – после такого кризиса необходимо четыре года только для того, чтобы достичь прежнего объема ВВП, и без антикризисных мер, принятых администрацией, ситуация была бы намного хуже.
Но отчасти сегодняшняя проблема с ростом – это и проблема Обамы. Каждый президент наследует экономическую ситуацию от предшественника, и зачастую именно она помогает ему вселиться в Белый дом. Но после этого его задача – не только изменить статистические показатели, но и направлять ход дискуссии. Пока же возникает впечатление, что Обама проигрывает спор о способах выхода из кризиса. Республиканцам удалось (кто-то скажет, не без помощи цинизма) совершить настоящее чудо – они убедили большинство американцев, что запустить экономический двигатель можно за счет сокращения налогов для богачей и крупных корпораций при одновременном урезании социальных льгот для миллионов наших соотечественников. Это, конечно, «математика абсурда», которая не может сработать: на практике, чтобы вернуть народное хозяйство на рельсы, нужно разумное сокращение социальных выплат при одновременном увеличении налогов. Однако по данным опросов 50% американцев считают отказ от повышения «потолка» задолженности разумной идеей, и убеждены, что экономический недуг следует лечить хорошей голодовкой.
Неудивительно, что весь мир тревожится о нашем будущем. К сожалению, другие страны сегодня, в отличие от 2008 года, не в состоянии нам помочь. В Европе разгорелся собственный долговой кризис. А страны с развивающейся рыночной экономикой, в первую очередь Китай, помогавший американским компаниям удержаться на плаву в период рецессии, скупая нашу продукцию, – от тяжелого промышленного оборудования до предметов роскоши – сегодня стараются затормозить собственный рост. Почему? Они тревожатся относительно инфляции, отчасти ставшей следствием политики ФРС по увеличению денежной массы, или финансовому стимулированию экономики. Значительная часть этих денег в конечном итоге оказалась на фондовом рынке, обогащая самые зажиточные 25% населения, в то время как остальным приходится скрести по сусекам, чтобы как-то прожить. Инвестиционные капиталы также устремились вверх вслед за нефтяными ценами (что больнее всего бьет по беднякам) и создали на рынках развивающихся стран «мыльные пузыри». Теперь все это возвращается к нам бумерангом.
Звучит довольно сложно – так ведь и сама картина сложна. Необходимо, однако, понимать, что за последние несколько десятилетий наша экономика претерпела важные и глубокие изменения, которые политики, как правые, так и левые, не смогли осознать. Сегодня в других странах появился полумиллиардный средний класс, способный выполнять ту же работу, что и американцы. Одновременно развитие технологий позволяет компаниям пережить рецессию почти исключительно за счет сокращения персонала. И если демократы пытаются преуменьшить значение плохих новостей, то и республиканцы, сосредоточившись на второстепенном вопросе о «потолке» задолженности, не могут предложить ни более убедительного объяснения возникших проблем, ни реальных способов их решения. Вместо этого обе стороны по-прежнему занимаются распространением мифов о том, что происходит с экономикой, и каким образом она перейдет – или не перейдет – к росту. Ниже я приведу пять самых вредных из этих мифов, и постараюсь объяснить, почему нам нужен иной путь к оздоровлению.
Миф № 1: Сейчас произошел лишь временный сбой, и скоро мы помчимся вперед на всех парах
Действительно, лишь 12,2% из экономистов, опрошенных за последние дни филадельфийским отделением ФРС, считают, что нынешняя ситуация перерастет во вторую волну кризиса (хотя с начала года доля этих «скептиков» существенно возросла). Но избежание второй волны – не синоним обеспечения роста, достаточно мощного, чтобы оживить рынок труда. На деле со слабым ростом и занятостью происходит негативный эффект «снежного кома». В прошлом после рецессии США как правило хватало шести месяцев, чтобы вернуться к нормальному уровню занятости, однако на этот раз, по оценке Глобального института Маккинси, для этого потребуется пять лет. Сохраняющаяся высокая безработица приводит к снижению темпов роста, поскольку сокращает потребительский спрос, а это, в свою очередь, затрудняет создание новых рабочих мест. Чтобы выйти к 2020 году на нормальный уровень безработицы в 5%, нам надо будет создавать по 187000 рабочих мест в месяц. При нынешних темпах роста и динамике занятости, мы к указанному сроку выполним эту задачу в лучшем случае наполовину.
Миф № 2: Все решат финансовые стимулы
Хотя третий раунд стимулов нельзя исключать в случае чрезвычайной ситуации (Обама уже намекнул на возможность серьезного ухудшения положения дел), но возможный результат вряд ли оправдывает риски. Во-первых наши кредиторы (крупнейший из них – Китай) будут явно недовольны ростом задолженности США из-за новых финансовых вливаний, не говоря уже об опасности создания на их собственных рынках «мыльных пузырей» за счет «горячих» денег. Это, впрочем, отнюдь не главное, поскольку стимулы – в виде скупки Федеральной резервной системой ГКО для снижения ставки по долгосрочным займам и облегчения рефинансирования задолженности домовладельцев – не станут большим подспорьем, если эти домовладельцы не имеют работы, позволяющей им расплачиваться по кредитам. Хотя количество выселений сокращается, наличие большого количества конфискованных за долги и выставленных на продажу домов подрывает рост цен на рынке недвижимости, что, в свою очередь, сокращает расходы потребителей и ослабляет их уверенность в завтрашнем дне. «Пришло время делать нечто большее, чем накладывать финансовые «пластыри», - полагает Мохамед Эль-Эриан (Mohamed El-Erian), генеральный директор Pimco, крупнейшей в мире компании, торгующей ценными бумагами. – Очевидно, что стимулы роста не смогли сломать структурные барьеры на пути повышения занятости».
Миф № 3: Нас спасет частный сектор
Между положением американских корпораций и работников существует фундаментальное различие: у первых дела идут совсем неплохо, а большинство последних сегодня получает меньшую зарплату, чем до рецессии. Компании имеют хорошую прибыль, но тратить ее на своих работников в США они не хотят.
Половина американцев утверждает, что не могут обеспечить себе месячный доход в 2000 долларов, не продавая что-либо из имущества. Бизнес же купается в деньгах: только за последний квартал 2010 года совокупная прибыль американских компаний составила 1,68 триллиона долларов. Однако руководство многих фирм трижды подумает, прежде чем создавать в США новый завод или исследовательский центр, если у них есть возможность создать его в Бразилии, Китае или Индии. Каждый год в этих развивающихся странах количество работников (и потребителей), относящихся к среднему классу, увеличивается на 70 миллионов. В этом заключается одна из причин высокой безработицы и низких зарплат в нашей стране. Эта ситуация сложилась задолго до рецессии и избрания Обамы президентом. В 2000-2007 годах в США было создано меньше всего рабочих мест со времен Великой депрессии.
Нобелевский лауреат Майкл Спенс (Michael Spence), автор книги «Новое схождение» (The Next Convergence), изучил вопрос о том, какие американские компании создавали рабочие места на родине в период «ускоренной глобализации» - в 1990-2008 годах. Результат оказался весьма неожиданным. Фирмы, занимавшиеся бизнесом на мировом рынке, - в том числе промышленные предприятия, банки, экспортеры, энергокомпании и корпорации, специализирующиеся на оказании финансовых услуг – практически не внесли вклада в увеличение занятости в США. Способствовали этому в основном структуры, работающие на американском рынке, и не сталкивающиеся с иностранными конкурентами – медицинские учреждения, государственные ведомства, розничные торговые и гостиничные сети. Увы, работа в этих секторах требует меньшей квалификации и хуже оплачивается, чем в отраслях, где царит аутсорсинг. «Когда я впервые увидел эти данные, я был просто ошеломлен», - рассказывает Спенс, выступающий сегодня за промышленную политику немецкого образца, связанную с сохранением рабочих мест в наиболее важных секторах отечественной экономики. Очевидно, утверждения о том, будто бизнес лишь ожидает «прояснения» ситуации в экономике и сфере регулирования, а затем начнет вкладывать капиталы на родине – не более чем миф.
Миф № 4: Мы готовы отправиться в путь, чтобы найти работу
Тезис о мобильности рабочей силы – достаточно создать рабочие места, и люди, готовые их занять, появятся сами – больше не актуален. Сегодня многие просто не могут переехать: отчасти потому, что их недвижимость сейчас стоит меньше, чем они за нее заплатили, а отчасти потому, что хваленая мобильность американцев снижалась еще до начала нынешних потрясений. В 1980-х лишь каждый пятый работник перебирался на новое место каждый год; сегодня это делает каждый десятый. Отчасти это связано с тем, что в семье все чаще работают оба супруга, и переехать, чтобы муж нашел новую работу, стало труднее. Причем в связи с тем, что женщины активно повышают свой профессиональный уровень и претендуют на рабочие места в наиболее динамичных секторах, эта тенденция будет только усиливаться.
Впрочем, есть и более важная проблема: квалификационная структура трудовых ресурсов плохо сочетается с характером имеющихся рабочих мест. Вот пример: сегодня число вакансий составляет 3 миллиона. «На рынке труда сложилась крайне непропорциональная ситуация, - отмечает один из руководителей Института Маккинси Джеймс Манийка (James Manyika), соавтор недавно опубликованного исследования под названием «Эффективная экономика: создание рабочих мест и будущее Америки» (An Economy That Works: Job Creation and America's Future). – Она охватывает его квалификационную, генденрную, классовую и географическую структуру». Это означает, что безработные автомобилестроители из Мичигана не могут продать свои заложенные дома, перебраться в Северную Дакоту, где недвижимость дешевле, а безработица составляет менее 5%, и переквалифицироваться в механиков.
Миф № 5: Предприниматели – основа экономики
Предпринимательство остается одной из самых сильных сторон Америки, верно? Нет, неверно. Темпы создания новых частных предприятий начали сокращаться еще в 1980-х. Забавно, что тогда же началось неимоверное разрастание финансового сектора. И эти две тенденции взаимосвязаны. Исследование, проведенное Фондом Кауфмана (Kauffman Foundation), показало, что между ними существует отрицательная корреляция. Причина в следующем: финансовый сектор поглощает многих талантливых людей, которые в противном случае могли бы заняться чем-то полезным в Кремниевой долине или другом центре инновационного предпринимательства. Кредитный кризис только усугубил проблему. Доступ к кредитованию по-прежнему ограничен, а прежние методы самофинансирования нового дела – по максимуму снять средства с кредитной карты или получить займ под залог имущества – можно использовать далеко не всегда.
Так что же у нас в «сухом остатке»? Экономика, по-прежнему нуждающаяся в серьезной «перетряске». Для выхода из кризиса существуют решения краткосрочного и долгосрочного порядка. Задача номер один – исправить ситуацию на рынке жилья. Хотя государство, естественно, не рвется еще глубже влезать в ипотечные дела, представляется очевидным, что рыночные механизмы неспособны устранить завалы с безнадежными долгами достаточно быстро, чтобы цены на жилье стабилизировались. Если примерно через месяц показатели этого рынка не улучшатся, правительству придется вмешаться – либо взять на себя больше безнадежных кредитов (ввести в действие аналог Программы по спасению проблемных активов, только для домовладельцев, а не инвестиционных банков?), либо учредить новые нормы, позволяющие домовладельцам добиваться от кредиторов более мягких условий выплаты задолженности.
Кроме того, не стоит забывать о высокой безработице среди молодежи. Появилось целое поколение молодых работников, которым грозит положение «вечных аутсайдеров» на рынке труда и отчуждение от общества. Научные исследования показывают, что людьми, долгое время не имеющими работы, часто овладевает депрессия, их здоровье хуже, а продолжительность жизни меньше среднестатистических показателей. Сегодня уровень безработицы среди молодежи достигает 24%, тогда как общий показатель по всем возрастным категориям равен 9,1%. Если же этим молодым людям все же удастся рано или поздно найти работу, они в ближайшие 15-20 лет будут получать меньшую зарплату, чем сверстники, ее не терявшие. В результате увеличивается разрыв между богатыми и бедными – первопричина роста политического популизма в нашей стране. И хотя республиканцы препятствуют выделению средств на государственные программы по повышению занятости и переквалификации, администрации следует «пробивать» краткосрочную программу предоставления рабочих мест на летние месяцы, чтобы помочь наиболее уязвимым «группам риска».
Однако все это – лишь временные меры. Подлинные решения не могут быть ни «быстродействующими», ни простыми – что лишь затруднит их прохождение через Конгресс. Утверждение о том, что более качественное образование повышает конкурентоспособность страны – очевидная истина, но речь здесь идет не только о том, чтобы выпускать больше дипломированных инженеров, чем Китай. Америке также понадобится очень много высококвалифицированных сварщиков и референтов, хорошо владеющих современными коммуникационными технологиями. Это говорит от необходимости создания эффективной системы среднего технического образования, для чего в свою очередь, необходим честный разговор о том, что не каждый может или должен находить деньги для учебы в ВУЗе, которая может оставить выпускника по уши в долгах и нисколько не гарантирует ему получение работы.
Другой важный вопрос – устранение различия между положением компаний и их работников. Демократы и республиканцы спорят о том, следует ли заставить американские корпорации возвращать заработанные деньги на родинку, где их можно было бы обложить налогом, и если да, то как это сделать. Однако это тоже спор не по существу. Искусные корпоративные юристы наверняка найдут способы обойти любые новые нормы на этот счет. (Этот факт сам по себе может служить аргументом в пользу упрощения системы налогообложения, что позволит отчасти устранить лазейки, благодаря которым 400 самых богатых американцев платят подоходный налог по ставке в 18%). Главное заключается в другом: необходимо сделать американскую экономику более привлекательной для инвестиций.
Один из способов добиться этого – подумать о том, что сегодня считается «пятым колесом в телеге»: промышленной политике. Эта концепция нуждается в ребрендинге, поскольку и демократы, и республиканцы шарахаются от этого «антиамериканского» явления как черт от ладана. На деле же эффективная промышленная политика – надежная подпорка для экономики. Никто не говорит о создании административно-командной системы наподобие китайской. Нужно, чтобы, как в Германии, представители частного и общественного сектора на всех уровнях совместно искали способы сохранения рабочих мест в народном хозяйстве.
Опыт Германии в этом смысле весьма показателен. В 2000 году эта страна, как сегодня США, столкнулась с необходимостью сбалансировать экономику. Объединение ФРГ и ГДР породило зияющий диспаритет доходов и высокую безработицу; одновременно немецкие рабочие места «перетекали» в другие страны Центральной Европы. Немцы, однако, не стали затушевывать проблему разговорами о «квартальных колебаниях» экономической конъюнктуры, а заглянули ей прямо в лицо. «Капитаны» большого бизнеса и профсоюзные лидеры наладили партнерство: в Германии представители профсоюзов входят в состав корпоративных правлений. Государство предоставило компаниям временные субсидии, чтобы они отказались от аутсорсинга. Главы корпораций совместно с представителями системы образования определяли нужный экономике набор квалификационных навыков. И это дало результат. Сегодня в Германии темпы роста выше, а безработица ниже, чем до рецессии.
Может показаться, что в нашем поляризованном по политическим линиям обществе подобное сотрудничество невозможно. Но в Германии после падения Берлинской стены поляризация была куда больше. Стоит вспомнить, что экономика меняется как правило именно в периоды кризисов. Банковский кризис мы уже пережили. Теперь мы столкнулись с кризисом долгосрочного порядка – в сфере роста и безработицы. И от того, как мы с ним справится, зависит ситуация в нашей экономике не на ближайшую пару кварталов, а на несколько десятилетий
What U.S. Economic Recovery? Five Destructive Myths
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба